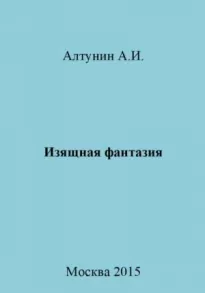Моя жизнь: до изгнания
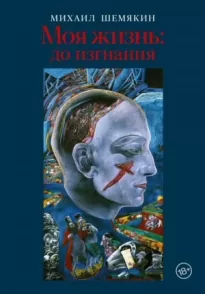
- Автор: Михаил Шемякин
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Моя жизнь: до изгнания" полностью
Ссылка в Уручье
После несостоявшегося комендантства в столице Латвии отца направляют служить в Белоруссию. Тётя Женя с моими братьями возвращается в тёплую Молдавию, а нас поселяют в военном посёлке Уручье, состоящем из четырёх кирпичных домов в четыре этажа, которые почему-то назывались досами. Мы жили в досе под номером два. В нескольких десятках километров столица Белоруссии – город Минск.
Сразу за досами начинался сосновый лесок, за ним был расположен большущий полигон, заставленный деревянными досками с мишенями. Школа, в которой мне пришлось учиться, находилась в двух километрах от досов, и, чтобы я успел дойти до неё, не опоздав на уроки, мама будила меня очень рано, а я завидовал сестрёнке, которой в школу ходить ещё не пришло время и она мирно посапывала в своей кровати. Мне же предстояло брести в предрассветной мгле по протоптанной в снегу тропинке, слабо освещаемой редкими фонарными столбами, подправляя сползающий куда-то вбок тяжёлый ранец с книгами и тетрадями и сжимая в руке мешочек с чернильницей. С ней у меня в памяти сохранился забавный эпизод, меня не красящий, но зато рисующий нравы захолустной начальной школы.
Чернильницы, полные чернил и заткнутые пробкой, чтобы не расплескать чёрно-фиолетовую жидкость по дороге, мы обязаны были приносить с собой каждое утро в свой класс. Керамическая чернильница, чтобы не опрокинуться, вставлялась в специально выпиленную для неё дырочку в парте. В чернильницу макалась ручка с металлическим пером, ею мы писали задания в расчерченных тетрадях.
Забывший свою чернильницу оборачивался и макал своё перо в чужую. Это постоянное маканье отвлекало меня от полюбившегося мне занятия – чистописания. Я, как и другие обладатели чернильниц, пожаловался нашей классной учительнице, которая заявила, что каждому, кто обернётся макнуть ручку, нужно плевать в лицо. Что я со злорадством и исполнил. Противная девчонка, сидевшая за партой впереди и постоянно изводившая меня “маканьем”, завопила, обращаясь к учительнице: “Мне лицо оплевали!” – “Так тебе и надо”, – прозвучал ответ учительницы. Мой плевок послужил сигналом к плевкам, родившим слёзы, ругань и драки в школьном коридоре. Но через пару дней чернильницы уже никто не забывал.
Арифметика, алгебра, геометрия, диктанты, сочинения – всё проходили, но что больше всего увлекало и интересовало меня, так это чистописание. Поскольку уже долгие десятилетия данный предмет исключён из школьной программы, мало кто сегодня знает, что крылось за этим словом.
Ученические тетрадки были разлинованы по-разному. Для математических предметов – в клеточку, для диктантов – горизонтальные полоски, а для чистописания были вычерчены линии горизонтальные с пересекающими их диагоналями. И учительница вешает на стену образчик – большую букву “А”, которая называется заглавной. Она объясняет нам, с какой точки надо начать движение пера, а куда вести и в какой части буквы делается нажим. Движения плавные, линии у всех букв закруглённые. И мы исписываем заглавной буквой “А” тетрадь за тетрадью.
“Слишком жирный нажим пера, очень неуверенная тонкая линия! Эта буква слишком толстая, расползлась за линию, а эта – худышка. Никуда не годится!” И так учительница проверяет каждую букву каждый день. Двойка! Опять двойка! За столь позорные отметки дома ученики получают традиционную для того времени порку. Порка обычно совершается отцами, и лупят они по голой заднице офицерским ремнём. Я часто бывал порот, но не отцом, который никогда меня не бил, а мамой.
Тройка (удовлетворительно) – порка. Четвёрка (хорошо) – и явно несправедливо, но я опять порот! “Учиться надо только на отлично!” – кричит мать. Настенные часы бьют четыре раза. Четыре часа утра, папы нет, а я, изрядно побитый (рука у бывшей кавалеристки довольно тяжёлая), так хочу спать. Но я сижу за столом и пишу одну и ту же букву, одну и ту же букву, одну и ту же букву.
Но вот буквы в моей тетради стройнеют, обретают положенный наклон, тончайшая линия, плавно закругляясь, делает правильный нажим, и листок, исписанный идеальной буквой, аккуратно вырывается учительницей из моей тетради, на него ставится фиолетовая печать со словом “образец” и в застеклённой рамочке вешается на стене в коридоре нашей школы.
Пятёрка – отлично. Эксцентричная мама целует меня, прижимает к груди и кричит сидящему в соседней комнате отцу: “Мишенька у нас – гений!”
Гением я, конечно, не стал, но чистописание меня увлекло, я исписывал по доброй воле десятки тетрадей, научился делать правильные наклоны букв на белых расчерченных листах. Получал невыразимое удовольствие аккуратно переписывать понравившиеся мне стихи. И, наверное, именно тогда родились мой интерес и любовь к каллиграфии.
Лет с пятнадцати я стал пристально вглядываться в работы мастеров китайской и японской каллиграфии, всё больше и больше подпадая под очарование таинственных, неведомых для меня иероглифов, преисполненных удивительной красоты. Я не знаю, какие слова, фразы заключены в эти иероглифы, но мне вполне хватает необъяснимой красоты этих трепещущих, гармонично переплетающихся линий, точек, мазков, рождённых волшебной кистью каллиграфа. Разумеется, я не обошёл вниманием прекрасные образцы каллиграфии мастеров средневековой Европы, России. Многочисленные копии каллиграфических шедевров укрепили мою руку, и, приложив усилия, я мог иногда что-то забавно “накаракулить” на бумаге. Но, разумеется, мастером каллиграфии я так и не стал, поскольку, несмотря на любовь к ней, она не являлась центральной темой моих творческих поисков. Хотя, оставляя автограф в своих книгах, не могу удержаться от малость вычурных линейных загибонов, чем часто заслуживаю возглас: “Какой у вас интересный и красивый почерк!” Никаким красивым почерком я не обладаю, просто я когда-то учился в советской школе чисто- и правописанию.
Один эпизод запал мне в душу. В 1975 году в одной из парижских галерей у меня была выставка графики, был издан каталог. В какой-то день я зашёл в галерею и увидел группу японцев, человек десять, рассматривающих мои работы. Галерейщик, разумеется, сообщил японцам, что молодой художник и есть автор работ. Японцы спросили, смогу ли я поставить автограф на каталоги, которые они хотят купить. Я согласился, и японцы выстроились в очередь за подписью. Я подписываю один каталог первому японцу, он улыбается и протягивает мне ещё один, я подписываю и второй, но он хочет мой автограф и на третий! И так было с каждым из японцев. Некоторые держали в руках по пять каталогов. Я спросил переводчицу, сопровождавшую японцев, почему они купили по нескольку каталогов. И переводчица пояснила, что мой автограф является для них образцом каллиграфии, а купили по нескольку экземпляров из-за того, что каждый автограф отличается от другого. Я был польщён – уж кто-кто, а японцы в каллиграфии разбираются.
…Жизнь в Уручье была довольно безрадостной: четыре унылых строения, за ними лес, с утра до вечера несутся выстрелы с полигона, иногда слышен грохот артиллерийских орудий. По воскресеньям, когда стрельба прекращается, бредём с мальчишками через лес к полигону собирать гильзы от патронов и снарядов. Иногда можно было найти и неиспользованные патроны, и тогда, как и в кёнигсбергскую пору, мы разжигали костёр в лесу, бросали в него найденные патроны и бежали со всех ног к близлежащему бугру, чтоб залечь за ним в ожидании звуков от разрывающихся патронов. А в остальном… Школа, отметки в дневнике, периодические порки, пьяный отец, скандалы с матерью.
Мы – мальчишки, дети офицеров, вечно занятых совещаниями в штабе, обязательными политзанятиями и вечерними пьянками, – сами себе придумываем развлечения: сооружаем пугачи, которые мастерятся из головки патрона, обмотанной проволочкой на одном конце, а на другом – обыкновенный гвоздь, тоже обмотанный проволокой. Затем в углубление головки патрона засыпается сера, соскобленная с трёх головок спичек, в неё вжимается острый конец гвоздя, и шляпкой гвоздя со всего маху ударяем по стене дома. Грохает так, что в ушах минут десять стоит звон. Бабки (матери офицеров и их жён) вопят на нас, высунувшись из окон досов. Но одними пугачами их тревоги не исчерпываются. Для этих сварливых бабок мы готовим сюрпризы почище грохота.
Где-то за солдатской казармой обнаруживаем ящик с карбидом. Карбид – это каменистое химическое соединение, и, если на него капнуть водой, он начинает шипеть, пузыриться и вскипать, издавая при этом омерзительный запах. Температура у облитого водой карбида высокая. Мы набиваем пустую бутылку из-под водки наполовину карбидом, наливаем туда воды, крепко-накрепко затыкаем бутылку пробкой и прячем её под скамью, куда должны прийти на посиделки злые бабки. Они являются незамедлительно, усаживаются, и… нагретая до предела карбидом бутылка с треском лопается, и нестерпимая вонища окутывает скамью. Крики, проклятия… А мы наблюдаем из-за угла и буквально лопаемся от смеха. Ну вот, пожалуй, и все развлечения в военгородке. Мало что вспоминается об этом периоде отцовской ссылки.
Пару раз отец возил нас с мамой в Минск в универмаг. Многоэтажное здание было набито народом, приехавшим из белорусских сёл и деревень. Мужчины в кирзовых сапогах, в пиджаках, на головах кепки с пуговкой, женщины в ситцевых платьях, на головах косынки. Покупают, орут, толкаются и при этом беспрерывно лузгают семечки подсолнуха и плюют шелуху на пол. Весь пол универмага засыпан этой шелухой. “Уваха! Уваха! Ховорыт Мынск!” – несётся из репродукторов по всему универмагу. Буква “Г” произносится по-особому, что-то среднее между “Х” и “Г”. За белорусский акцент я схлопотал по шее от блюстительницы чистоты русского языка – моей мамы. Этот эпизод тоже остался в амбаре моей памяти.
В досах жили и офицеры-белорусы, дети которых говорили по-белорусски, и даже когда переходили на русский, то всё равно сохраняли белорусский говорок. И вот как-то летом я, придя домой, радостно сообщил маме, что мой приятель “Хлеб ухостил меня винохрадом!” – “Вот тебе – Хлеб!” – отвесив мне солидную затрещину, сказала мама. “Вот тебе – ухостил!” – и я получаю вторую. “И вот тебе – винохрадом!” – и я зарабатываю третью. “Ещё раз «хакнешь» – заработаешь опять по шее!” И мой белорусский акцент исчезает навсегда.
И, пожалуй, ещё один эпизод почему-то запомнился довольно чётко. Привычка быть одному привела однажды летним днём в глубину соснового леса. Накануне я прочёл пару сказок моих любимых братьев Гримм, в которых злые кровожадные великаны, обитающие в дремучих лесах, не щадили тех, кто попал им в руки. Огромные сосны окружали меня, день был тёплый и солнечный, громадные кроны деревьев загораживали солнечный свет, и в лесу царил лёгкий полумрак. Я брёл в оглушительной тишине, скользя сандалиями по высохшей рыжеватой хвое, густо усыпавшей землю. Не знаю отчего, но мне впервые почему-то стало тревожно на душе и, пожалуй, даже страшновато. Но я упрямо шёл вперёд, рассчитывая дойти до стрельбища и там чем-нибудь поживиться, может, даже найти взрывную противотанковую головку наподобие той, которой мой отец в Кёнигсберге разнёс печку на кухне. Вот её-то мы бы с мальчишками из нашего доса и грохнули.