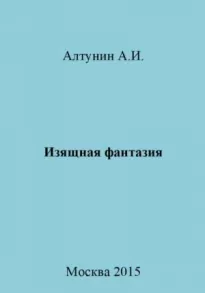Моя жизнь: до изгнания
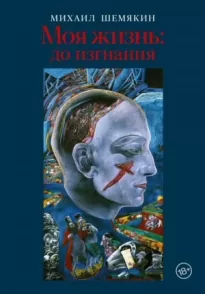
- Автор: Михаил Шемякин
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Моя жизнь: до изгнания" полностью
Светлый брат Евстафий
С монахами мы с Лёвой общались мало, жизнь в монастыре не располагает к беседам. Молитвы, службы, работа и за всем следящее и недремлющее око отца казначея отбивали охоту к болтовне. Да и, по правде говоря, мы с Лёвой чувствовали себя чужаками и среди старых, и среди молодых монахов и послушников. Не знали они, да и не нуждались ни в таинственных ландшафтах Иоахима Патинира, ни в загадочных образах Иеронима Босха, ни в сумасшедшем буйстве красок Ван Гога. Не слышали они, да и слышать им было уже не нужно ни звучания “Времён года” аббата Вивальди, ни божественных аккордов органной музыки Баха, ни “нечеловеческой”, по определению Ленина, музыки Бетховена. Путь, избранный ими, был теперь окрашен лишь молитвенными песнопениями, раздающимися под сводами древних монастырских соборов. Григорианские монотонные песнопения наверняка были любимы Бахом, но всё же он наполнил церковные своды иной музыкальной палитрой. Дух Творца требовал звучания новых гармоний, и Иоганн Себастьян Бах со своими сыновьями, и Людвиг ван Бетховен, и Вольфганг Амадей Моцарт, и иже с ними, и пришедшие после них были гениальными проводниками неиссякаемого Творческого Духа Всевышнего. И мы с Лёвой были уже приобщены к этому необъятному музыкальному разнообразию, к “метафизической эволюции” звукового мира. Хотя я прекрасно понимал, что, выпади мне судьба навсегда остаться в древней обители, молитвенные песнопения со временем заменили бы мне весь музыкальный мир…
Единственный, кто был нам близок по духу в этом монастыре, – наместник отец Алипий. Он знал и любил французских импрессионистов, из которых особенно отмечал Моне, Ренуара и Дега, рассуждал о мастерах итальянского Возрождения, естественно не забывая и великих зодчих Западной Европы, мог поделиться своими мыслями о Бальзаке, Золя и процитировать что-то из английской поэзии, вспоминал о своих занятиях в студии Митрофана Грекова, о дружбе с Георгием Нисским, которого он именовал Жорой. Он рассказывал нам о войне, о знакомстве в освобождённой Праге с чешским художником Яном Конупеком. Беседы эти велись в основном во время прогулок по монастырю, когда только я и Лёва сопровождали наместника. Неторопливая интеллигентная речь плавно лилась из уст отца Алипия и тут же менялась на народный говорок при подбежавшем по какому-то делу послушнике. Получив от отца Алипия напутственное: “А ну, дуй галопом коровью дрисню грести!” – послушник стремглав мчался на скотный двор, и мы снова слышали плавную речь о прелестях радостной и светлой палитры Огюста Ренуара.
Впрочем, для того чтобы почувствовать близкого тебе человека, не всегда обязательно, чтоб он был приобщён к миру искусства, с которым ты связан. И я с любовью и теплотой вспоминаю по сей день одного из молодых монахов, ставшего мне близким и сердцем, и душой, – звали его Евстафий.
Есть лица, при одном взгляде на которые на душе становится спокойно и радостно. Глаза их светятся такой добротой, что моментами кажется, кто-то неземной глядит на тебя. Такое лицо было у молодого иеромонаха, о котором я хочу рассказать и с которым нас связала в монастыре необычная дружба.
Возникла она для меня неожиданно. В один из вечеров, бредя в одиночестве по монастырской дорожке и погрузившись в свои мысли, я с удивлением обнаружил, что иду уже не один: рядом со мной молча идет стройный белокурый монах. “Моё монашеское имя Евстафий, – тихо произносит он. – А вас как зовут? Не Михаил?” “Да, Михаил”, – озадаченно отвечаю я. “Я почему-то так и подумал… А чем вы в обители заняты?” – “Я художник, иконы реставрирую”. – “Святое дело, богоугодное”, – убеждённо произносит он и умолкает, но продолжает идти рядом. И я чувствую, что мне, как ни странно, приятно, что этот незнакомый привязавшийся ко мне монах топает подле меня, нравится наше долгое молчание, нравится, что в этой монастырской тиши, где мы бредём, не открывая рта, какая-то беседа между нами продолжается. И даже почудилось на какой-то миг, будто мы не идём, а стоим и смотрим друг на друга и говорим о каких-то очень важных для нас вещах…
Евстафий провожает меня до кельи, где храпят старцы тихоновцы и посапывает во сне Лёва, улыбается и тихо растворяется в темноте монастырского дворика.
И в последующие дни, если у Евстафия и у меня случалось свободное после работы время, наши молчаливые прогулки продолжались. Разговоры об искусстве или рассуждения на религиозные темы казались мне не надобными. Да и у Евстафия, наверное, были свои причины для молчания. И лишь однажды он нарушил тишину, рассказав, что в монастырь пришёл после армии, где над ним изрядно поиздевались сослуживцы за то, что он носил на шее крестик и отказывался его снять. И безо всякой злобы и горечи он вспоминает: “Сержант кричал: «Рядовой Маркелов! Крест снимать будешь?!!» Я говорил: «Нет». И он мне – хрясть по зубам раз, хрясть ещё… А потом офицер приходит и тоже говорит: «Крест снимешь?» – и бьёт по зубам и сажает на гауптвахту. Через неделю выйду с неё, и опять: «Крест снимать будешь? Нет?!!» – и снова по зубам, и снова на губу”. Больше ни он, ни я не проронили ни слова. Но я всё явственнее ощущал, что этот худенький монах чем-то близок мне по духу. Но чем? – задавал я себе вопрос и снова осознавал, что иногда сталкиваешься с тем, что не всегда доступно твоему человеческому разумению.
Зачастую Евстафий удивлял меня каким-то восторженно-благоговейным отношением ко мне, которого я ну никак не заслуживал. Я был всего-навсего мазилкой, ищущим свой путь в искусстве и изрядно потрёпанным в психушках, надеющимся на исцеление, и, когда я с горечью делился с ним какими-то совершёнными мною промахами, проступками, неловкостями, коря себя за это, он начинал торопливо утешать меня: “Всё хорошо, брат Михаил. Не огорчайся, тебе это простительно, тебе это дозволяется”, – с непоколебимой уверенностью напоследок произносил Евстафий, делая ударение на слове “тебе”. С “дозволенностью” я был категорически не согласен, а восторженное отношение ко мне воспринимал как одно из свойств его души, преисполненной любви и доброты ко всем и всему, его окружающему.
Видимо, предчувствуя разлуку и понимая, что в этой жизни мы навряд ли когда-нибудь ещё встретимся и продолжим наши молчаливые прогулки, он захотел сфотографироваться со мной. В сырой крохотной келье, где он обитал, одел меня, несмотря на моё сопротивление, в монашеское одеяние, перепоясал поясом инока, надел мне на голову свой чёрный клобук. “Я ведь не пострижен, и не положено мне, наверное, в этом ходить”, – говорил я ему. “Уж кто-кто, а ты-то, брат Михаил, это можешь носить!” – с жаром отвечал мне Евстафий, и мы бредём в монастырский сад, где нас фотографирует молодой послушник. Фотография эта стоит у меня на письменном столе, а где сейчас светлый брат Евстафий, я не знаю.
Вскоре после нашего с Лёвой отъезда из монастыря он был послан с тремя другими монахами на Афон, где находился русский православный монастырь. До меня доходили слухи, что иеромонах Евстафий ушёл жить и молиться в одну из пещер, вырытых в горе; попасть в неё и выбраться оттуда можно было только по верёвочной лестнице. Просидев в пещере какое-то время, Евстафий вернулся, вроде бы принял схиму, вроде бы заслужил аскетическими подвигами отношение к себе как к святому. Вроде бы… Всё это были слухи, а что было в действительности, я не знаю. Но недолгая дружба осталась запечатлённой в моём сердце и душе на долгие-долгие годы, наверное, до конца моих дней. Иногда, когда мне вдруг случается бродить где-то в одиночестве, мне кажется, что рядом со мной молчаливо идёт худенький белокурый монах по имени Евстафий.
Шестьдесят лет спустя, в Греции, во время разговора с настоятелем Пантелеймонского монастыря на Афоне я выяснил, что Евстафий действительно провёл какое-то время в пещерах, был поднят оттуда по истечении определённого срока, принял схиму с именем Сергий, а через некоторое время обратился в какое-то из посольств и попросил политического убежища, ему оно было предоставлено, и он исчез с горизонта монастыря.
После этого разговора мне приснился сон, где я увидел бегущего к чёрным железным воротам Евстафия. На нём был ярко-зелёный подрясник, расшитый цветами, и монашеский колпак, тоже зелёного цвета и так же расшитый цветами. Он молотил по воротам и, когда ему открыли, побежал по дорожке к старинному особняку, стал стучаться в дубовые двери. Они отворились, и из них вышел старый монах в таком же зелёном облачении. Евстафий опустился на колени и громко крикнул: “Прошу политического убежища!” Старик его обнял и ввёл в здание. Ворота и тяжёлые двери закрылись, и я проснулся.