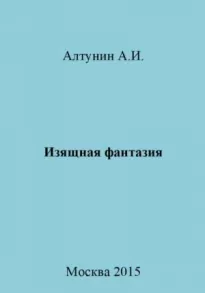Моя жизнь: до изгнания
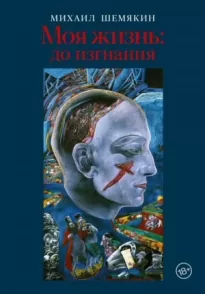
- Автор: Михаил Шемякин
- Жанр: Биографии и Мемуары
- Дата выхода: 2023
Читать книгу "Моя жизнь: до изгнания" полностью
Ордер на обыск и похититель шоколада
Поздним вечером холодного месяца марта, возвращаясь домой, я увидел недалеко от нашего подъезда крытый фургон с надписью “Хлеб”. Соседняя от подъезда дверь служила входом в кондитерский магазин, в окне виднелись снующие с ящиками люди. “В сталинское времечко в таких хлебовозках часто возили заключённых, а сейчас там полно булок и хлеба, которые разгружают к завтрашнему утру”, – думаю я, входя в подъезд. Не мог же я в эту минуту предположить, что через шесть часов – поздней ночью – меня повезут в неизвестном направлении на этой самой машине, на которой большими буквами написано “Хлеб”.
Но поднявшись на лифте на шестой этаж и войдя в свою комнату, я застал картину, от которой холодный пот выступил на лбу.
В комнате было много народу. Я узнал стоящего у моей двери дворника нашего дома Степана со своей татаркой-женой, убиравшей по утрам вместе с мужем снег и мусор во дворе. Они, как оказалось, должны исполнять роль понятых при обыске жилья гражданина Шемякина. Так они были обозначены в ордере на обыск, предъявленном мне мужчиной средних лет в сером костюме. Судя по всему, он был главным среди роющихся в моих шкафах и вещах молодых людей в синей милицейской форме, потому что каждый раз, когда они обнаруживали в моих вещах кажущиеся им подозрительными обрывки бумаг с какими-то письменными пометками и необычные для них рисунки, они несли их этому человеку, важно восседающему за моим рабочим столом и внимательно просматривающему принесённые бумаги и рисунки.
Моя мама с лицом белым как полотно, ещё не забывшая, к чему приводили обыски, устраиваемые сотрудниками аппаратов Чижова, Берии и Абакумова, держала на руках двухлетнюю Доротею, а Ребекка, с нескрываемой ненавистью в больших еврейских очах глядящая на бесцеремонно роющихся в её платьях и белье мусоров, сидела на стуле в углу комнаты.
“А на каком основании у вас получен ордер на обыск?” – задаю я вопрос человеку в сером костюме. “Вы обвиняетесь в хищении репродукций и книг из научной библиотеки Ленинградской академии художеств на громадную сумму, – оторвавшись от чтения и повернувшись ко мне лицом, поясняет серый человек. – Их-то мы и ищем”, – заканчивает он своё объяснение.
“Вот вся моя коллекция репродукций с картин разных мастеров, – говорю я ему, достав с полки шкафа тоненькую папку годами собиравшихся бесценных для меня зееманновских репродукций. – Книги по искусству стоят вон на той верхней полке, а куплены они в Доме книги на Невском проспекте. Больше ничего, касающегося искусства, у меня нет, за исключением красок, холстов и бумаги. И эти репродукции для меня очень дороги, будьте с ними, пожалуйста, поаккуратнее”, – с раздражением говорю я серому начальнику.
Но, как ни странно, именно репродукции заинтересовали его меньше всего. Небрежно перелистав их и проверив, нет ли где на них библиотечной печати, он сунул репродукции обратно в папку, вернул мне и снова погрузился в чтение и перебирание письменных бумаг, откладывая некоторые в сторону.
Я сел на стул и молча наблюдал за поисками, которые продолжались ещё часов пять. Исчезнувшие из библиотеки репродукции разыскивались под крышкой моего рояля и внутри него, развинчивалась циммермановская фисгармония, в недрах которой могли оказаться похищенные репродукции, искали под шкафами и на шкафах, проверяли, не засунуты ли они за подрамники картин, листались вороха бумаг и картонок с моими рисунками.
Некоторые из принесённых рисунков главный внимательно рассматривал и, выбрав один, показывал его мне, задавая один и тот же вопрос: “А эта карикатура на кого нарисована?” – “Это не карикатура, а иллюстрация к сказкам немецкого писателя Гофмана”, – взглянув на рисунок, поясняю я. “Странные сказочки у вашего немца, – задумчиво тянет главный. – Ну а эта карикатура на кого? Поясните мне”, – спрашивает он, демонстрируя рисунок, изображающий Раскольникова, держащего в руке топор. “А это студент Раскольников, зарубивший топором старуху ростовщицу в романе Достоевского”, – звучит мой ответ. “А романист тоже какой-то странный…”
В результате просмотра все мои иллюстрации были заподозрены им в карикатурности на кого-то. И, устав от его дурацких вопросов, я с досадой восклицаю: “Да поймите же вы, что я не карикатурист и для журнала «Крокодил» не работаю!”
Около трёх часов ночи моя мама, держащая на руках давно уснувшую Доротею, спрашивает, можно ли положить ребёнка обратно в кровать. “Сейчас допроверим матрасик, тогда и положите”, – отвечает усталым голосом один из милиционеров, тщательно ощупывая матрасик.
Через час все мои письма, дневники и несколько томиков поэзии Гёте и Гейне, напечатанных на немецком языке и привезённых мною из Германии, упаковываются в пару картонных коробок и выносятся милиционерами из комнаты. “А ваш сын отправится сейчас с нами. Надо взять тёплые вещи, зубную щётку, пасту и кусок мыла”, – стоя рядом со мной, говорит главный, обращаясь к моей матери. Через несколько минут мама суёт мне дрожащими руками пакет с туалетными принадлежностями и тёплый свитер. “Ну ведь вы ничего не нашли!” – кричит теперь уже покрасневшая от гнева Ребекка. “Вы, гражданка, успокойтесь и не шумите, дочку разбу́дите. А с мужем вашим нам нужно ещё долго беседовать и разбираться, что к чему”.
Закончив объяснения, главный заставляет понятых подписать какую-то бумажку, и меня в сопровождении милиционеров ведут к выходу. А на лестничной площадке главный неожиданно шепчет мне доверительным тоном: “А вашего ближайшего дружка мы тоже сегодня успели навестить”. “Кто же им может быть?” – вертится в голове вопрос, пока мы спускаемся по лестнице.
Хлебовозка стоит напротив нашей парадной, и именно в неё меня запихивают. Захлопывается дверь, я стою, погруженный в полную темноту, из которой слышится знакомый, слегка заикающийся голос моего друга Юлика Росточкина: “М-м-миша. Ид-ди-дите сюда! З-з-здесь есть скам-м-мейка!” Я на ощупь добираюсь до Юлика и усаживаюсь на скамью. Машина трогается. “В машине разговоры запрещены!” – раздаётся громкий голос из вмонтированного в машине репродуктора, и мы, пожав в темноте друг другу руки, едем молча.
Минут через сорок машина останавливается, щёлкает замок открываемой двери, и мы спрыгиваем на булыжники внутреннего двора какого-то казённого учреждения.
Нас с Юликом отводят в тюремную камеру с ржавыми решётками на небольшом окошке. Обитые железом двери запираются, и мы садимся на деревянную скамью, тянущуюся вдоль стены. “П-п-приехали. Всё п-п-перерыли, реп-п-п-родукции пересмотрели, и-их у м-меня н-н-немного. Пи-пи-письма все в-в-взяли и ж-ж-журнал ф-ф-французский с ф-ф-фотографиями П-п-парижа. Ч-ч-что им н-надо? В м-м-машине д-д-долго с-с-сидел. Т-т-темно и х-х-холодно”, – поведал мне свою историю бедняга Юлик. “У меня то же самое было, но долго, поэтому тебе и пришлось помёрзнуть. Извини. Не трусь. Слава богу, сейчас не сталинская эпоха”, – подбадриваю я Юлика. “Д-д-да я не тру-у-ушу”, – слышится ответ моего друга, и мы умолкаем. Тихо, тоскливо. “Ну хоть бы на допрос, гады, вызвали!” – шепчу я с ненавистью в голосе Юлику.
Но ни на какой допрос нас с Юликом не вызвали, а через несколько мучительно долгих часов ожидания дверь камеры отворили и нас вывели на улицу, вручив мне в руки пакет, собранный моей мамой. “Свободны! – суровым голосом произнёс человек в сером костюме и вслед громко добавил: – Пока свободны!”
Ничего не понимая, ошарашенные, мы бредём с Юликом к дому. Надо бы позвонить домашним, обрадовать, сообщив, что мы на свободе, но ни у меня, ни у Юлика в карманах ни копейки. А идти предстояло ещё долго, и, пока мы брели по дороге к дому, ёжась от утреннего холода и клацая зубами, нам была уготована ещё неожиданная встреча с людьми в милицейской форме.
На одной из улиц Петроградской стороны у входа в здание какого-то районного отделения милиции стояла парочка молодых милиционеров, которые, увидев меня с Юликом, тут же подскочили к нам. “Ребята! Зайдите-ка к нам в отделение. Это ненадолго! Поможете нам в одном деле!” – весело проговорил один из них.
Не слушая нашего отнекивания и отбрыкивания, они затащили ещё не пришедших в себя после кошмарной ночи нас с Юликом в небольшую комнату отделения милиции. “Вам ничего не надо ни делать, ни говорить, просто постоите здесь у этой стенки с одним пареньком, а потом мы вас отпустим”, – поясняет нам приведший нас милиционер.
Мы стоим у стенки с приведённым и поставленным между нами невысоким парнишкой лет семнадцати, от которого невыносимо тянет потом и блевотиной. Минут через десять в комнату входит простоватого вида мужчина с седыми ворошиловскими усами, сопровождаемый капитаном милиции. “Гражданин охранник! Вы можете опознать среди этих трёх молодых людей сбежавшего от вас преступника?” – суровым голосом спрашивает капитан усатого мужчину. “Так вон он посреди парней стоит, наш фабричный грузчик Бэдик. Его я утром в конфетно-шоколадном цеху и обнаружил. Он за ящиками с шоколадом сидел, видно, с вечера там запрятался, а ночью конфеты и шоколад лопал. А как увидел меня, побежал к двери и через забор сиганул. Не понимает пацан, что сладкое есть вредно, а воровать и опасно, и нехорошо”, – заканчивает свой ответ охранник.
“Да, что вредно, ваш Бэдик уже, наверное, понял – весь сортир у нас шоколадом облевал, а что государственное добро воровать и в рот совать нехорошо – так это ему скоро судья объяснит, – с усмешкой глядя на бледного Бэдика, произносит капитан. – А вам, ребята, спасибо, можете идти”, – добавляет он, выходя с охранником из комнаты.
Бедолагу Бэдика ведут в туалет блевать, а мы с Юликом продолжаем свой путь.
“Ну, Бэдика я понимаю, я тоже в детстве ночью шоколадом обожрался. Но мама говорила, что от этого у меня был только сильный жар”, – думаю я, идя к дому. “А почему Бэдика от шоколада тошнило, как вы думаете?” – спрашиваю я Юлика. “Д-да не от шо-шо-шоколада Бэ-бэдик бле-евал, от лик-к-кёра, ко-то-торый в к-к-конфеты ко-ко-кондитеры на-наливают, они та-так и на-зы-зываются «шо-ко-коладно-ли-ли-кёрные». Я м-маме их по-по-купаю. Во-во-няло-то от Бэ-бэ-бэдика ли-ли-кёром”, – объясняет мне от волнений совсем раззаикавшийся мой друг.
Трудно описать радость моей матери и Ребекки, не ожидавших моего возвращения. “Ведь я, собирая твои вещи, думала, что, может, не увижу тебя годы”, – тихо шепчет мама, обняв меня. “Садисты, садисты!” – повторяет со слезами на глазах Ребекка. А Доротея, сидя в кровати, смеётся и протягивает мне свою любимую игрушку.
Беседовать мне с “серым” начальником так и не пришлось, потому что 8 апреля Генеральным секретарём ЦК КПСС становится Леонид Ильич Брежнев, и, видимо, как это всегда происходит при смене власти, кого-то снимают, кого-то назначают, какие-то дела пересматриваются, какие-то закрываются. И, как будто на день рождения, мне 4 мая рано утром привозят изъятые у меня картонные коробки со всеми моими письмами, бумагами, дневниками и записками, включая книги со стихами немецких поэтов. “Извините, но вышло какое-то недоразумение, – сказал молодой мужчина, ставя внесённые коробки на пол моей комнаты. – Вот здесь распишитесь, что изъятые у вас книги и бумаги вам возвращены”.