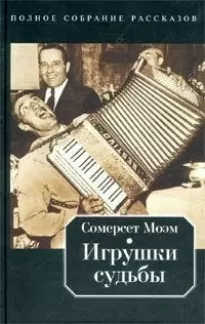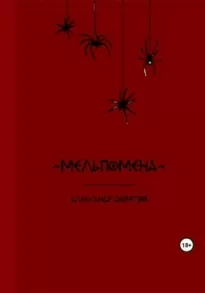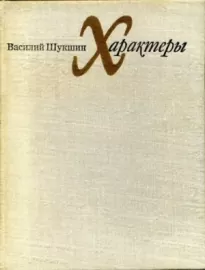В лесах Пашутовки

- Автор: Цви Прейгерзон
- Жанр: Проза
- Дата выхода: 2017
Читать книгу "В лесах Пашутовки" полностью
Моя мама
Женщины-торговки стояли возле корзин и громко расхваливали свой товар. Рынок почти опустел, но вечер все медлил и медлил. На западном краю неба горела воспаленная рана заката, облака неопрятным тряпьем висели над миром, из труб стекали тонкие струйки воды. Начисто отмытые прошедшим дождем, застыли дома вдоль улиц моего родного местечка. На неровных, словно обкусанных грызунами, краях крыш молчаливо копили силу прозрачные капли, срывались вниз, и на их месте тут же зарождались новые. С неба медленно опускалась на землю прозрачная печаль субботнего вечера.
С рынка уходили последние покупатели, но часть женщин продолжала торговлю, при этом переругиваясь и честя друг дружку последними словами. Ругань летела в лицо подошедшему вечеру, и он отряхивался, как деревья, проливающие серебряную капель от каждого порыва ветра.
— Ой, люди милостивые! — кричала одна из торговок. — Чтоб она лопнула, эта дура! Чтоб утроба ее наполнилась дохлыми тараканами, чтоб взяла ее черная холера! Ой, милые мои!
«Эта дура» — очень пожилая морщинистая женщина — что-то отвечала едва слышным умоляющим голосом. Как видно, по незнанию или по неосторожности она поставила свою корзину с яблоками и семечками на чье-то «законное» место, и это восстановило против нее других торговок. Пальцы «нарушительницы» судорожно и упрямо сжимали плетеную ручку корзины, а на голову сыпался град проклятий и угроз. Я всмотрелся и вдруг узнал ее.
Это была моя мать. С бешено колотящимся сердцем я подошел и попросил семечек. Мать поспешно наполнила стаканчик из той половины корзины, где были насыпаны семечки, — вторую занимали яблоки, — и еще поспешней опорожнила его в карман моего пиджака. Затем она подняла на меня испуганные глаза.
— Мама, — прошептал я. — Мамочка моя…
— Ой, Биньямин! — воскликнула мама и зачем-то принялась старательно подтыкать головной платок.
Торговки смолкли как по команде, и на рынке воцарилась тишина, нарушаемая лишь криками босоногих еврейских детей, месивших грязь на близлежащих улицах. На местечко плотной стаей летучих мышей опускались вечерние сумерки — они гасили дневные звуки и шорохи, беспечный смех и пустопорожнюю суету; заглядывали в каждую щель, в каждый уголок, проверяя, не осталось ли где незаконных следов ушедшего дня. Несмотря на все перемены и мировые революции, в местечке чувствовался еще запах наступающей субботы. Светильники горели далеко не во всех окнах, но кое-где можно было разглядеть робкие признаки праздника — в сияющих радостью черных глазах, в белом платьице прошедшей девочки, в блеске свежевымытых полов и дразнящем запахе еды, собранной от общей скудости на торжественный субботний стол.
— Вот ты и приехал, Биньямин, вот и приехал… — проговорила мама, и слезы послышались в ее голосе.
Она подхватила корзину и повела меня за собой, удивительно ловко лавируя между лужами и топкими грязевыми болотцами. Десять лет не был я в родном местечке, и нынешняя картина запустения тяжело отзывалась в моей душе. Мама торопливо шагала впереди. Корзина раскачивалась на сгибе ее локтя, так что черное полчище семечек угрожающе сдвигалось то к одному, то к другому краю — ни разу, впрочем, не просыпавшись.
— Все-таки есть Он, Владыка Небесный… — вдруг сказала мама с коротким смешком и добавила: — Наверно, есть…
На лице ее застыло выражение какой-то странной, умоляющей и в то же время покорной радости.
— Мир сильно постарел, а, мама? — попробовал пошутить я, подхватывая ее под локоть.
Но шутка не получилась: постарел не мир, постарела она, моя бедная мать. Старость напрыгнула на нее диким зверем, напрыгнула и проглотила. Я осознал это вдруг, одним мигом, и сердце мое сжалось от боли. Машинально я сунул руку в карман пиджака, наткнулся на семечки и стал лузгать их, сдерживая таким образом слезы. Осторожно и тихо, чтобы, не дай бог, никого не потревожить, я щелкал семечки, поочередно поднося их ко рту, и черно-белая шелуха пунктиром отмечала мой путь, падая в грязь и пропадая в ней на веки вечные.
— Сейчас увидишь, как выросла наша Голда, — бормотала мама словно бы в полусне. — Такая большая стала, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Читает без передыху. Только она теперь и читает…
Так мы добрались до комнаты моего детства на верхнем этаже дома портного Азриэля. Как и прежде, смотрели со стен бледные лица в черных рамках: Перец Смоленскин, Шолом Аш[27], Хаим-Нахман Бялик… На нижней полочке хромой этажерки, как и прежде, выстроились шесть томов Мишны, сочинения Ивана Никитина и сборник отдельных глав из Талмуда. На других полках стояли подшивки альманаха «Шилоах», книги еврейских писателей, учебники и пособия.
Дома мать наконец сбросила с себя то странное выражение молящей покорности судьбе, которое так угнетало меня по дороге с рынка. Его сменила радостная, почти лихорадочная суетливость.
— Ой, Голденю, ты только глянь, какой гость у нас сегодня! — преувеличенно пылко возвестила она с порога. — Скорее ставь самовар!
Мать принялась за уборку, хотя надобности в этом не было никакой. В явном смятении она бегала по комнате, переставляя вещи с места на место. Голда возилась с самоваром, а я, стараясь заглушить тяжелое чувство, подшучивал над сестрой:
— Голденю, ты ли это? Нет, конечно, нет. Не может быть, чтобы эта барышня с блестящими глазами была той малюткой Голдой, которую я помню! Тебе, наверно, прохода нет от кавалеров?
Моя бедная сестренка, раскрасневшись от смущения, дула в самовар с такой силой, что жилки едва не выскакивали из ее тонкой шеи. Мать вышла из комнаты и по прошествии некоторого времени вернулась с двумя куриными яйцами с надтреснутой скорлупой. Руки ее подрагивали.
— Ну вот и нашлось тебе поесть, Биньямин, — ласково сказала она.
Потом мама долго рылась в корзине, отыскивая среди хороших яблок подгнившие — субботний ужин для себя и для Голды. Мы сели за стол. Яйца, как уже сказано, предназначались мне, дорогому гостю. Я с отвращением жевал хлеб, косясь на пыльные фотографии Бялика, Аша и Смоленскина. Мать и сестра ели яблоки. В комнате стояла давящая напряженная тишина, вынести которую не смог бы и самый терпеливый. Не выдержал в итоге и я.
— Пойду немножко пройдусь, — смущенно сказал я, поднимаясь со стула, и поспешил выйти, сопровождаемый удивленными взглядами матери и сестры.
Я шел по улице, и влажные ладони ночи гладили меня по лицу. Далеко в вышине застыли в строю звезды, торжественные и неподвижные, как полки чужих душ на параде. Тень сиротливой субботы слепым нищим брела от лачуги к лачуге, робко стуча в запертые двери.
На улице Советов ярко светились окна «Клуба кустарей». Что-то потянуло меня туда — на свет, к людям. В одном из помещений шла репетиция: молодежь готовила постановку по драме Гордина «Безумец»[28]. В другой комнате несколько евреев слушали рассказ местного фотографа Шмуэля-Нахмана Петровича.
— И вот мы едем, и едем, и едем… — говорил фотограф, прикуривая папиросу. — Поезд еле дышит, прямо как раненая кляча. Повсюду люди, мешки, узлы, махорочный дым, гул голосов. И когда я говорю «повсюду», это именно повсюду: не только в вагоне, но и на вагоне, и под вагоном, и за вагоном, и перед вагоном, на буферах. И все в один голос клянут евреев. Тогда Петлюра много наших побил в городах и местечках…
И вот, стало быть, лежу я в вагоне, прячу лицо… — Шмуэль-Нахман выпустил длинную струю табачного дыма. — И слышу, как один необрезанный рассказывает ужасную историю. Он рассказывает, а остальные кивают. Кивают и нас ругают.
Приходим мы, слышь-ты, в Галиции в одно село, — говорит этот гой. — И подзывает меня унтер. Мол, так и так, Тарасов, сейчас мы идем на мельницу. А хозяин этой мельницы — жид, а жиды все до одного — предатели, иудино семя! Ну ладно, пошли мы на мельницу. А там, слышь-ты, сидит этот еврей-хозяин, в руке у него телефонная трубка, и лопочет он в нее что-то австрийское, на австрийском, слышь-ты, языке. Доносит то есть. Взял я его за грудки и говорю ему так: «Ты, тварь жидовская, непотребная, богопротивная, проклят будь вместе со всем отродьем твоим, в бога душу мать! Я, русский солдат Тарасов, и вся наша русская армия зябнем в холодных окопах, голодаем, газом травимся, кровь проливаем за царя и отечество! А ты, жидовская сволочь, мало что в тепле и сытости, так еще и шпионишь-предаешь святое православное воинство!» Так вот сказал я ему. Ну, а он, само собой, лопочет что-то по-своему, по-жидовски, и коленки у него дрожат от страха, и зуб на зуб не попадает. Снял я тогда с плеча винтовку и заколол жида-предателя. Штыком заколол, прямо в горло его жидовское, чтоб не лопотал больше. Будь проклят и он, и все племя его, и мельница его жидовская!
— Мельницу-то за что? — недоуменно спросил кто-то из присутствующих.
Вопрос повис в воздухе и остался незамеченным. Но, скорее всего, спросивший не слишком нуждался в ответе.
— И вот мы едем, и едем, и едем… — продолжил свой рассказ фотограф Шмуэль-Нахман Петрович. — И я лежу себе ни жив ни мертв, прячу лицо, боюсь слово сказать, чтобы не опознали во мне еврея, а поезд то ползет, то встанет, то снова ползет. У паровоза одышка, вагоны скрипят, колеса лениво так перестукивают. За окнами светает, пасмурно, поля стоят мокрые. Когда доехали до Хролина, уже совсем рассвело. Вот и станция. Слез я с полки, стал пробираться к выходу. Ага, попробуй пробейся! Куда ни глянь — руки, ноги, головы, тела, люди, мешки, узлы, корзины. Кто спит, кто храпит, кто ругается, кто цигаркой дымит — сплошное месиво. Налево — никак, направо — никак, ни вперед, ни назад. Надо как-то пролезть, а я рта боюсь раскрыть, чтобы себя не выдать! Надо попросить, подвинуть, прикрикнуть… — а я молчу!
Фотограф обвел слушателей значительным взглядом и хлопнул себя по коленям:
— А я молчу! Знаю: скажу хоть слово — сразу отличат еврея по говору! И вот стою я, дергаюсь туда-сюда, как зарезанная курица. Время идет, а я ни с места! Снаружи утро, в вагоне совсем светло, Хролин ждет меня за окном, а я, понимаете ли, застрял! И плохо мне, ох, как плохо!
— Плохо? — переспросил тот же голос, что и прежде.
И ведь не лень кому-то задавать такие дурацкие вопросы… Фотограф не удостоил глупца ответом, лишь качнул головой и длинным плевком отправил в угол догоревшую и изжеванную папиросу.
— Ну вот… Звенит, стало быть, второй звонок. Второй! А я все там же. И тут вдруг такое отчаяние меня взяло, что забыл я обо всем на свете. И заорало это отчаяние моим еврейским голосом: «Станция Хролин! Станция Хролин! Дайте выйти!» И конечно, тут же распознали во мне меня — еврея то есть. Что тут началось! Повскакали с мест, кто-то кричит: «Жид!», кто-то грозит кулаком, кто-то материт во всю глотку. Всюду злоба, глаза горящие, локти и пинки. Плохо, думаю, вот теперь совсем плохо. Время-то петлюровское, страшное для еврейского народа. Сами помните, что тогда творилось…
Слушатели замерли в ожидании. Они давно уже смотрели на Шмуэля-Нахмана как на выходца с того света и искренне недоумевали, почему он выглядит настолько живым. Должен сказать, что и я, знавший много подобных историй, никогда не встречал ничего подобного тому, что довелось мне услышать в тот субботний вечер в местечковом «Клубе кустарей». Фотограф снова покачал головой и потер лоб ладонью.