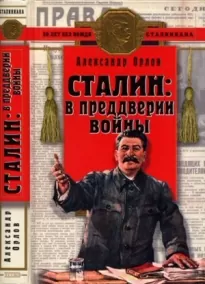Милош и долгая тень войны
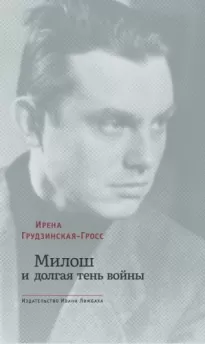
Читать книгу "Милош и долгая тень войны" полностью
Ее вера в истину, скрытую во вселенной, тоже невыносима. Милош восхищенно цитирует ее признание: «Пусть я умру, мироздание будет существовать. Но это меня не утешит, если я — нечто иное, нежели мироздание. Но если мироздание для моей души — как второе тело, то моя смерть перестает быть для меня важнее, чем смерть кого-то неизвестного. Так же и мои страдания» [перевод П. Епифанова]. Он комментирует эту цитату следующим образом: «Конечно, не каждый может решиться на столь великолепную отрешенность, как Симона Вейль, и трудно было бы отослать всех поэтов в буддийский или христианский монастырь» [138]. Ее мысль имеет для него, а также, как он предполагает, для других практическое, то есть позитивное, значение. Она утверждает, что вера всегда осмысленна, предлагает пари, паскалевский заклад, ведь даже если миром правит демиург, жизнь в послушании Богу не является ошибкой.
Это последнее замечание очень существенно, поскольку практический аспект имел для Милоша решающее значение. В этом смысле он был Калибаном, то есть человеком, укорененным в действительности. В сборник текстов Симоны Вейль Милош включил эссе и фрагменты, относящиеся прежде всего к двум направлениям ее мысли: мистико-религиозному и пролетарско-марксистскому. Эти два аспекта он хотел донести и подвергнуть дискуссии в послеоктябрьской Польше. Он стремился обновить польский католицизм путем его одухотворения и денационализации. А также изменить тон дискуссии о марксизме через критику общества как такового, потому что даже освобожденный коллектив всегда противостоит личности. Хотел отбросить абстрактные идеи и встать на сторону обиженных, предлагал этику политического сочувствия.
Социализм переносит понятие блага на покоренных, расизм — на покорителей. Но революционное крыло в социализме использует людей, которые, хоть и рождены среди низов, по своей натуре и по призванию покорители, и поэтому кончает той же самой моралью [139].
Однако мысль Симоны Вейль содержала и другие близкие Милошу элементы. Его привлекала двойственность, парадоксальность ее выводов, доведение противоречий до их предела, — все то, что он чувствовал и порой критиковал в себе. Рассуждая о нации, Вейль утверждает, что патриотизм — это идолопоклоннический культ самого себя [140], схожая мысль часто встречается у Милоша, отрицавшего типичную для польской культуры и Церкви сакрализацию народа. Но Симона Вейль (и до известной степени Милош) полагала, что за отечество следует гибнуть. Это читаем в ее «Укоренении», книге, написанной уже во время войны, то есть уже после отказа от пацифизма, который перед этим склонил ее к весьма неоднозначной поддержке Мюнхенского сговора. После начала войны она полностью изменила свое мнение и требовала от де Голля перебросить ее из Англии в оккупированную Францию, чтобы там сражаться с оружием в руках. Это была одна из ее отчаянных «нелепостей». Больная и истощенная, она ела тогда столько, сколько составлял официальный продовольственный паек во Франции. Де Голль ей в просьбе отказал.
Милош не включил в подготовленный им сборник эссе «„Илиаду“, или Поэму о силе», хотя это был первый текст Вейль, который он прочитал еще во время войны. Комментарий к «Илиаде» не соответствовал профилю сборника. Вейль написала это эссе в 1939 году; оно было издано годом позже, в декабре 1940 года и в январе 1941-го, в номерах 231 и 232 в «Cahiers du Sud» под псевдонимом Émile Novis (Эмиль Новис). Это не филологический или критический анализ, а метафизическое рассуждение о насилии, хотя она называет его силой — force, а не violence. К тому времени Вейль уже получила опыт войны в Испании, и этот текст, вне всяких сомнений, возник под сильным влиянием упомянутых мной в начале книги военных картин Гойи, которыми она восхищалась летом 1939 года в Женеве. Эти картины вызывают в ней ощущение своего рода немоты, невозможности выразить словами то, что насилие делает с людьми, как с его жертвами, так и с носителями. О невозможности выразить насилие она пишет во включенных в подборку Милоша «Тетрадях», сравнивая «Илиаду» с Книгой Иова, которая
настоящее чудо, ибо она в совершенной форме выражает мысли, которые человеческий ум может постичь разве что под пыткой нестерпимой боли, но тогда они бывают бесформенны и изглаживаются так, что их уже не найти, как только боль стихает. Написание Книги Иова — особый случай чуда внимания, приложенного к несчастью. То же и «Илиада» [141].
Вейль выбирает и переводит фрагменты «Илиады» и показывает, как сила, примененная против людей, превращает их в вещи, как субъект становится объектом, как психическое насилие делает бесчеловечным раба и подданного, как делает бесчеловечным и того, кто насилие применяет. Война, борьба приводят к тому, что все персонажи подвержены насилию и все ощущают страх. Отдельные сцены интерпретируются в отрыве от их контекста, так, как это делает Гойя в цикле «Los desastres de la guerra» («Бедствия войны»). Она писала, так сказать, не отводя взгляд от самых страшных сцен, языком сухим и как бы абстрактным. Мышление — вот то, что позволяет ей двигаться вперед. «Где не находится место для мысли, там не остается места ни для справедливости, ни для осмотрительности» [142].
В рассуждениях Вейль «сила» равняется насилию и войне. Одна из ее записей, приведенных в подготовленном Милошем сборнике, это своего рода задание самой себе: «Прикладывать усилия к тому, чтобы в мире действенное ненасилие всё больше и больше приходило на смену насилию […] Употребить все усилия, чтобы быть способным на ненасилие. Это зависит также и от противника [143]. Но эти старания были обречены на неудачу из-за деградации гражданского языка. В 1937 году Вейль писала в эссе «Не будем снова начинать Троянскую войну», что у истоков этой войны, войны из «Илиады», стояла хотя бы Елена, то есть конкретный человек, а война, приближение которой предвидела Вейль, будет уже вестись только вокруг «слов, украшенных прописными буквами». В том же году в эссе «Сила слов» она заявила, что мы утратили способность понимать язык, которым пользуемся, все его значения для нас абстрактны; такие слова, как народ, безопасность, порядок, власть, употребляют абстрактно, безотносительно чего-либо, не имеющиго отношения к изменчивой действительности и друг к другу. За эти слова, а не за Елену мы гибнем в наших троянских войнах [144].
Милош также отвергал слова, написанные с большой буквы, в пользу человека и конкретики. В его романе о войне и Варшавском восстании (я имею в виду, конечно, «Захват власти») мне слышится эхо таких же сцен, как у Вейль или Гойи. Каждого героя сила войны обращает в вещь: его настигает либо смерть, либо равнодушие.
Когда сила, говорит Вейль в эссе об «Илиаде», угрожает человеку смертью, он каменеет; когда она убивает, превращает его в вещь. В военных стихах Милоша и в его романе «Захват власти» равнодушие является следствием насилия. Как и Симона Вейль, Милош показывает, что во время войны групповая лояльность преобладает над индивидуальной способностью мыслить, над умением — как сказала бы Вейль — оценивать действительность независимо от своей сиюминутной точки зрения. Разумеется, мы говорим не о последнем моменте, не об экстремальной ситуации, а о решениях поддаться насилию или его применить, примкнуть к группе или сохранить индивидуальную обособленность. «Совесть […] насилуется социальным», — утверждала Симона Вейль [145]. А «практика насилия, — здесь я привожу слова Ханны Арендт, цитирующей Франца Фенона, — связывает людей воедино, поскольку каждый индивид образует звено в великой цепи насилия, образует один из членов огромного организма насилия». В такой ситуации «первая исчезающая ценность — это индивидуализм, — и Арендт добавляет уже от себя, — вместо него мы сталкиваемся с групповой сплоченностью, которая переживается более интенсивно и оказывается намного более сильной, хотя и с менее длительной связью, чем все виды дружбы, гражданской или частной» [146].
Впоследствии мысли Симоны Вейль пригодились Милошу для обдумывания собственного выбора, который ему не раз приходилось делать во время войны. О том, что он отказался участвовать в Варшавском восстании, что еще до этого, в 1943 году, пережил «поэтический перелом», заключавшийся в отказе от слов, написанных с большой буквы, отказе от «благородного отечественного мышления», «требований добродетели» и «не вполне своего голоса» (ZPW, 10–11). Основные понятия мышления Милоша о войне — это слова, написанные с маленькой буквы: унижение, равнодушие, молчание. Его интересует реальность повседневности, конкретность деградации; он отвергает возвышенный язык, предпочитая ему ситуативную конкретику. Можно сказать, что во время войны Милош видит Елену, а не абстракцию. Он старается смотреть на насилие — «медузу нашего времени» (Гомбрович) — как Вейль, не отводя взгляд, но и не каменея. *
В рассуждениях, содержащихся в этой книге, я занимаю совершенно четкую позицию против насилия. В основе такой позиции, как я писала во Введении, лежат не только рациональные аргументы, но и опыт взросления в обществе, затронутом войной, которая навсегда изменила его состав, психику и окружающий пейзаж. Наверняка имеет значение и тот факт, что я родилась женщиной. В беседах на тему отношения Милоша к восстанию мои коллеги приходили к выводу, что на мою оценку влияет женская точка зрения. Безусловно, женщины могут быть столь же воинственны и кровожадны, как самый кровожадный мужчина. Я, однако, чувствую солидарность с теми женскими движениями, которые защищают мир. И стараюсь не поддаваться равнодушию к насилию.
В нравственной позиции, в поэзии и прозе Милоша меня привлекает его чувствительность к хрупкости жизни. Как и он, в польской литературе о Второй мировой войне я больше всего ценю стихи «Я строила баррикаду» Анны Свирщинской и «Дневник Варшавского восстания» Мирона Бялошевского. Мне близка традиция женской антивоенной поэзии. Поэтому я не хочу завершать эту книгу холодным взглядом Медузы, которая, если верить Овидию, стала в наказа-ние чудовищем, хотя и была жертвой насилия. Здесь больше подходит довоенное стихотворение «Предназначения» сегодня уже почти легендарной, убитой войной Зузанны Гинчанки. Оно прекрасно подчеркивает контраст между эстетизацией войны и невзрачностью, слабостью «женской песни». Но — хочется верить — еще и силу, таящуюся в этой слабости. Зузанна Гинчанка ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
Ратный труд славя стихом, пробитым цезурой уместной,
ненависть мужа к мужу — рифмой мужской, тоном резким,
юноши, чьи икры — кремень — кожей обтянуты тесной,
в клацанье наколенников шли с оружья разящим блеском.
Эйфорбос ранил Патрокла, — Гектор добил его просто.
Гектора — Ахиллес копьем поразил проворно.
Славьте ж топор и дубину, храбрый меч обоюдоострый,
Танцевальную ловкость удара, силу, что так упорна.
Ваше дело судить и солдатской строфой порочить
Ненависть мужа к мужу, приговором пенье вменяя,
А мне — с пламенной страстью в кувшины